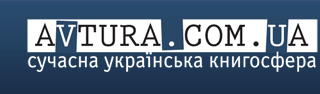|
06.11.2011
Рецензія на книжку:
О.Апальков, Єрьоменко Володимир, Левченко Сергій, Крижановський Юрій. "Склянка Часу*Zeitglas",№58 : літературно-мистецький журнал
(Переклад:
Апальков Олександр, Хомутина Хельга)
В погоне за новыми впечатлениями я решил перелистать свежую «Склянку Часу» (№58) не слева направо, как обычно, а справа налево. И не пожалел.
ГАРМОНИЯ И АЛГЕБРА
На последней странице, в разделе «Эссе», размещена статья Лилии Безуглой: «Звукопись в поэзии Анатолия Мельника». Среди авторов номера Безуглая названа поэтессой из Харькова, хотя мне как-то не попадались её стихи.
Текст Безуглой я, признаюсь, не прочитал, а просмотрел. Опасался утонуть в терминологии. Безуглая оперировала понятиями эвфония, когезия, когерентность, силлепсис, эквифония, метафония, подсчитывала гласные и согласные в стихах Анатолия Мельника. Это не настроило меня на мирный лад. Особенно разъярил почему-то силлепсис. Я никогда не слыхал этого слова, хотя моими настольными книгами по сей день являются десятки словарей, справочников, определителей. Само собою, я вспомнил «Моцарта и Сальери» и поник головой – Лилия Безуглая «музыку разъяла, как труп... поверила алгеброй гармонию» Анатолия Мельника. Не медля более, я открыл первую страницу журнала, но там обнаружился Пасенюк, и в ужасе я опять бежал на корму, к Лилии Безуглой. Она простила меня, предателя, и приютила. Я задержался. За что-то зацепился. Кажется, опять за силлепсис. И решил перед смертью определить, что означает сие.
В сущности, я знаю, что вся литература давно препарирована учеными умельцами, изучена и приведена к общим знаменателям, и все гениальные находки, которые кажутся поэтам их частной собственностью, давно открыты и зарегистрированы в патентных бюро.
Но силлепсис не давал мне покоя.
Мой невелик улов
Окуней, рифм и слов.
Эти две строки из стихотворения Мельника как раз и оказались силлепсисом. Лилия Безуглая растолковала мне, в чем дело: силлепсис – синтаксическое объединение семантически разнородных слов. Определение ошеломило меня. Я сообразил, что сотни раз объединял семантически разнородные слова, не зная этому сказочному действу названия. Теперь же знал!
Я прочитал Лилию еще раз, внимательно, смакуя вместе с нею чудесную звукопись и восстанавливая в памяти с помощью, опять же, Лилии значения всех упомянутых в её статье терминов.
Читая что-либо, я всегда задаю себе вопрос: «Для чего писано?».
Для чего, в сущности, автор пишет? Имени своего ради; желая поразить воображение возлюбленной (возлюбленного), настращать читателя своим интеллектом, оправдаться перед близкими, обвиняющими его в безделье, завоевать славу – то есть, по Льву Толстому, – любовь незнакомых автору людей. Загляните в себя поглубже – и поймёте, для чего пишете вы? Для чего пишу, к примеру, я? Не знаю. Может быть, я уже сыграл в ящик, и мои писания – что-то вроде подергивания лапки лягушки, умервщленной доктором Гальвани.
Хотел бы услышать из уст Лилии, для чего она писала статью об Анатолии Мельнике. Впрочем, я знаю ответ. Не с целью обучения Анатолия Мельника стихосложению писала она. Не дай, Боже, Анатолию начать считать гласные и согласные и выуживать свои стихи не из собственного нутра, а из когезий, силлепсисов и метафоний. В последнем абзаце статьи Лилия подтвердила мою догадку: «Уверена, что Анатолий сам не подозревал, что применяет все эти фоностилистические приемы... Именно поэтому лучшие его произведения доставляют читателю подлинное эстетическое наслаждение».
Так для чего же?
Лилия писала статью, чтобы отдать поэту дань уважения, почитания. И это ей удалось. Она разглядела талант Анатолия Мельника и предложила свое видение его сути – изящное, отлично обработанное видение, прозрачное, как брильянт; и сумела подать его в той сфере, где она – дока. И своего добилась – теперь я хочу читать её протеже.
Судьба не обошла Анатолия Мельника. У него есть талант и у него есть Лилия.
ВЕЧНЫЙ СВЕТ
Вдохновленный Лилией, я решил оценить попутно все материалы раздела «Эссе» – объемные прозаики требовали времени, которого у меня нет, а о слагателях стихов я говорил в прошлый раз. Чтобы не стрелять наугад, я нашел первого автора из раздела «Эссе» – Людмилу Исаеву.
Совпадение заголовка моего подраздела с названием композиции Клинта Манселла Lux Aeterna («Вечный Свет», или «Свет Вечности»), – и случайно, и нет. То есть, не бывает, как уже точно ведомо мне, ничего случайного в мире. Свет и Вечность сами всплыли из подсознания, когда я прочитал статью Исаевой «Как случились «Сонеты для тебя». Не статья, в сущности, а фрагмент из воспоминаний о доме Геннадия Кононова в городе Пыталово.
Несколько сонетов из названного цикла предваряют на страницах журнала воспоминания Людмилы. О сонетах не буду здесь рассуждать. Нельзя поминать Бога всуе – ведь сейчас я изготовился оценивать не поэтов, а материалы раздела «Эссе».
Текст Людмилы на двух страничках сработан в незамысловатом стиле – автор явно преследует цель не покрасоваться, но дать толику камерной правды нашего времени. О прошлом она рассказывает ясно, словами простыми, со смехом сквозь слезы. То есть, слез почти нет. Юмора предостаточно. Марк Твен говорил: «Делайте добро ближнему, если это не грозит вам осложнениями, и никогда не упускайте случая выпить». К выпивке я добавил бы смех. Шопенгауэр считал, что смех легко обнаруживает несоответствия между нашим представлением о мире и его действительным состоянием; Ницше полагал, что смех освобождает человека, и педантично предлагал смеяться не меньше десяти раз в день, иначе будут проблемы со здоровьем. Людмила рассмешила меня, и я поправил свое здоровье, а это стоит немало. Я её должник.
Никогда не упускайте случая выпить и рассмеяться. И никогда не берите кредит в банке.
Есть в воспоминаниях Людмилы и несколько чисто философских искр.
Одна из них – о нашей ответственности. Да, мы отвечаем за все наши дела не только перед ближними, не только перед Землей, но и перед Мирозданием. И то, что нам придется ответить на всю катушку, видно уже невооруженным глазом.
Другая искра – об ассоциациях, рождающих поэтические образы.
Ассоциации должны быть оригинальными и понятными читателю – одновременно. Оригинальными могут быть только личные внутренние связи и размышления автора. Но в то же время они должны быть узнаваемы читателем, должны витать, что ли, в воздухе. Объединить эти два момента очень сложно. Геннадию Кононову игра удается. Если же ассоциации сугубо личны и абсолютно непонятны читателю, мы получаем Иосифа Бродского. Он, кстати, говорил, что ему наплевать на мнение читателей. Зачем же тиражировал свои сочинения? Ему бы достаточно одного экземпляра – для себя.
У Людмилы Исаевой есть о чем вспомнить. И я буду ждать продолжения.
ПОРОЖНЯК
На очереди – стр. 105 – статья Ярослава Брусневича о книге Александра Курапцева «Лоскуты».
Я прочитал, Брусневича. Прочитал еще раз, внимательнее, надеясь на эффект Лилии Безуглой. Не получилось. Брусневич не пишет, а бает. Говорит не ясным и простым языком, но чадит дымом выспренностей, обшивает свое словесное «добро» кружевами поэтизмов, обрамляет пышным орнаментом образности. Для чего? Не Курапцева – себя показать. Причем, он всерьез считает мыслями построения, сколоченные его «возвышенными» приблизительными словами.
Каким образом автор, любой, приходит к своему строю языка?
Каждый пишущий начинает на первом этаже языковой башни – излагает просто, на низшем уровне: то есть, языком дилетантским, не точным (словарь примитивен и ограничен). Затем, если дилетант продолжает работать в литературной сфере, он, пытаясь выделиться из массы других дилетантов, поднимается на второй этаж – запас слов растет, и в некий момент автор начинает чувствовать, что может «молоть» языком. В связи с этим у него может поехать крыша, он начинает усложнять свои писания – макияжит их, украшает кружевами, орнаментами и позолотой. Даром это не проходит. Теряется ясность. В изысканной словесной вязи автор находит аристократичность, отличающую его от литературной черни. Многие авторы – Брусневич в их числе – застревают на втором этаже, решив, что это обитель бога. Лишь немногие поднимаются выше, возвращаясь – на новом витке спирали – к языку простому, но теперь всеобъемлющему, одолевают фальшивую аристократичность, открывая для себя абсолютную важность точного слова и опасность слова лишнего. И находят действительное благородство – их текст приобретает прозрачную ясность. Он становится интересным – о чем бы автор ни писал. Пример – Иван Бунин. Любой его текст интересен. Но в 17 лет (еще пребывая на «втором этаже») Бунин выпустил первую книжку стихов. И потом – это говорил он сам – всю жизнь гонялся за экземплярами издания, выкупал их, чтобы никто не видел его несовершенным. Интересное чтиво – главное, решающее достоинство любой книги. Интересная книга рождается в краткости, простоте и ясности. Даже если составляющей стиля автора является суггестия. Краткость не определяется объемом книги. Небольшой текст дилетанта может быть переполнен лишними словами. Во всех сочинениях того же Бунина нет ни единого лишнего слова.
Николай Некрасов предлагал писать так, «чтоб словам было тесно, а мыслям просторно». Он подразумевал отсутствие лишних слов и преград вольным мыслям. Но сплоховал классик. Неточно выразился. Можно ведь допустить и другое толкование знаменитого афоризма: уйма слов и редкие, как зайцы в поле, мысли. Когда мне довелось произнести слова Некрасова неподкованному в литературе человеку и спросить, как он это понимает, неподкованный сказал: «Моя версия – максимум пустых слов и минимум мыслей». У Брусневича – не буду врать – одного зайца я приметил, на финише. Но лишних слов с декламацией – навалом: «Из нас не стихом ли душа выбрасывается, выпрастывается и даже выпархивает? И ходим после с душою вынутой, душой покинутые, – до следующего стихотворения, стихоосуществления. Если он придет, следующий». Кто этот, кстати, «он», спросит дотошный, но уже несколько одурманенный читатель. Чтобы не дать ему очухаться, Брусневич добивает его рифмой: «Одушевление стихом неодушевленного тела, овеществление стихом неуловимого дела».
В прошлом обзоре я писал, что сотворение стихов пьет немало крови их творцов, много трудов приходится изводить на форму ради того, чтобы выразить чувство, и что я отказался в своё время от стихосложения именно поэтому. Мне казалось тогда, что проза пьет крови меньше. Я жестоко ошибся. Прозу писать еще труднее, хорошую, понятно; совершенно нелепо браться за прозу, если у автора тьма рифм, но нету за душой мыслей. А если и есть, нет точных и простых слов, чтобы их выразить. В прозе не спрячешься за шикарную рифму. Версификатору нужно быть очень осторожным, когда он берется за прозу. Склонность к стихосложению просматривается в прозе Брусневича, как ослиные уши. Может быть, он даже хороший поэт. Но хороший поэт вовсе не всегда удачлив в прозе. Чаще, гораздо чаще я замечал, как искусственно дышит проза поэтов. Тащить рифму в прозу – моветон. Если в прозе нет мысли, рифма не спасает, а выдает мыслительную немочь.
Брусневич явно хочет наваять «чего-то железного», но точно не знает, чего. Вдруг перечисляет многочисленные определения слова «лоскут», не прибавляя ни грамма в суть Курапцева, тащит в свой текст Маяковского ради этого слова – «лоскут». Причем, цитата из Маяковского дана с грубой ошибкой, которая ломает стиль Маяковского и ритм его стиха. «...досыта издеваюсь, нахальный и едкий». У Маяковского «изъиздеваюсь» – очень «маяковское» словечко, но Брусневич исправил «опечатку».
Зачем здесь Маяковский? Ради того, говорю, чтобы его «лоскут» был вплетен в текст Брусневича и чтобы последний красиво зарыдал над беспросветной долей нынешних поэтов, – ведь даже «вконец окровавленный сердца лоскут» не приносит им признания. В который раз повторяю великолепную максиму Ларошфуко: «Какими бы достоинствами ни наградила природа человека, сделать из него героя она может, только призвав на помощь судьбу». У Маяковского были талант и судьба. У подзащитных Брусневича судьбы нет – по крайней мере, она пока не проявила себя. Не было её и у современников Маяковского, которые копировали его, надеясь на успех. Проблема дороги к успеху решается очень просто. Сам Маяковский советовал: «Не делайте под Маяковского, делайте под себя». Если вынести за скобки «делать под себя» как двусмысленность, и действительно не подражать, можно вполне выйти на перспективную дорогу. Но только выйти на дорогу. Дальше – судьба. Остается ждать и надеяться. Можно дождаться. И можно не дождаться. Стало быть, не судьба.
«Книга Александра Курапцева – это не ворох случайностей, не куча мала: книга строилась, собиралась, выискивая свою логику в массе алогичного». Но ведь это пустословие, чеховская реникса (renyxa).
На помощь призывается Елена Крон (кто такая? почему не знаю?), дабы и она бросила свои пять копеек в копилку Брусневича. И Елена бросает: «Поэзия рождается из ущербности и ложного понимания, из никогда не затухающего разногласия между действительностью и её окружением». Хорошо бы услышать пояснения Елены Крон насчет того, где проходит граница между действительностью и её окружением. Или как различить действительность и её окружение. Или, может быть, Брусневич ошибся, списывая с Елены Крон?
«В широком смысле слова вся жизнь – ПОЭЗИЯ: со всем возвышенным и низменным, прекрасным и безобразным, кристально честным и подлым. Тут главное – точка зрения и угол отражения». Кимвал бряцающий и «фантастическое» открытие! Особенно насчет угла отражения.
Трюизмы; демагогия. И, однако, Брусневич поучает Курапцева с важностью академика: «Автору еще предстоит отсекать, вычеркивать лишние строфы».
Как же так? Брусневич – «автор з Донеччини». Донбасс ведь порожняк не гонит! Гонит, однако.
Из Безуглой я понял, кто таков Анатолий Мельник, и захотел с ним познакомиться. Из Брусневича я не понял, кто таков Курапцев.
Но имеется компенсация – финальные рыдания Брусневича над русской поэзией (в духовном единстве с Василевичем, автором «Кубометра пустоты»): «Концентрация поэтического вещества в стиховом слове, та самая, за счет которой бывшее просто лексической единицей в словаре добирает свои нули, удесятеряясь – в строке, в строфе, в тексте, – где она?». Снимаю шляпу. Первый худой, как велосипед, заяц, первая мало-мальски внятная мысль, но ведь и она ошибочна и в арифметике, и в сути. Есть концентрация! Предлагаю читателю две строфы из Курапцева, опубликованные в журнале, две строфы, где есть концентрация:
Душа – венец живых изделий:
На протяженье долгих лет
Всё бьется в неуютном теле
Слепой потусторонний свет.
Стучится в заспанные веки
Сквозь бездны глаз в кромешной тьме...
Мне жаль любого человека,
Родившегося на Земле.
ЯБЭ
Следующим на очереди в разделе «Эссе» (стр. 148) стоит текст Владимира Ерёменко, о котором я мог бы рассказать много хорошего. Кстати, Бунин говаривал, что никто не скажет о писателе лучше и глубже, чем сам писатель, и, если вы увидите шикарный отзыв о некоем авторе, не сомневайтесь – его написал сам автор, дав подписать критику, за магарыч. На это достойное дело средств у меня нет, и потому я без сомнений и раздумий решил перейти к последнему материалу раздела «Эссе», озаглавленному так: «Между призванием и признанием, или ответ смиренных ремесленников раздраженному мастеру». Статья была подписана загадочным именем: «Я.Б., Ч.В., В.П., Р.Ш.». Я сделал еще шаг. Выяснил, что авторов четверо: Брусневич, Василевич, Пасенюк и Шилуцкий. Приметил в тексте также и мое имя. Как видно, авторы задумали сыграть квартет в мою честь, назвав меня мастером, а себя – приземленно – ремесленниками. Я не люблю лести и комплиментарной критики, она хороша лишь в тостах, но отделаться только словами благодарности ремесленникам никак не мог, ведь я настроился оценить их текст. Просматривая его, сообразил, что это отнюдь не комплименты. Не хвалили меня, а порочили. Мама мия! Шилуцкий даже нашел кардинальный способ избавить литературу от такой погани, как я, – предложил отрубить мне руку. Почему-то одну. К тому же, это членовредительство должен был сделать я сам. Да-а, мое имя склоняли не доброжелатели, а враги. Причем, лютые! И это меня необыкновенно взбодрило. Фирма Александра Апалькова веников не вяжет. Он подкинул мне врагов! Ну, что такое друзья? С ними хорошо посидеть за столом, расслабиться. Оттачивать же стиль можно только в общении с врагами. У меня были и есть враги, некоторые из них постарели, ненавидя меня (ненависть в окололитературном мире питается, как и в других сферах, чувством мести и завистью). Но армию врагов желательно пополнять. Внезапная прибыль четверых недругов зараз – большая удача.
Я бы с удовольствием пообщался с ними живьем. Приглашаю их всех к себе. Забронирую номера в гостинице. Обеспечу царский ужин в лучшем ресторане города. Важно, чтобы они не забыли паспортов.
Организовал и вдохновил команду моих хулителей Пасенюк, который по его собственному признанию «созвонился» с остальной троицей и – должно быть – предложил им опустить мудака (меня, – В.Е.) ниже плинтуса, размазать по стене, стереть в порошок, трахнуть и пр. Да, и отрубить руку. За что же? За мой отклик на «Кубометр пустоты» Василевича («Склянка Часу», № 54). Причем, больше всех кипешевал почему-то не потерпевший Василевич, а Брусневич, взявший на себя роль самого крутого факера.
На этом можно было бы поставить точку. Те, кто читал мои книги, разберутся сами. Но мне дороги и мои потенциальные читатели, и я опасаюсь, что они попадутся на мошенничества членов квартета. Причем, члены, погоняемые отвращением ко мне, заранее постановили, что я сволочь, лошара и сучара, и, дабы меня сгубить, просто вынимали тузы из рукавов. Я не хотел бы отдавать моих читателей на поталу шулерам.
Но и моих врагов я не хотел бы спугнуть. Врагов нужно беречь, и я обойдусь с ними мягко, лишь указывая вам, читателям, на их крапленые карты. Мелкую карту оставлю без внимания, чтобы не раздувать текст, но на серьезных мошенничествах смиренных ремесленников придется остановиться основательно.
В дальнейшем общении с врагами я не буду называть их полные имена. Пиарить бесплатно – глупо. Они обозначили себя как Я.Б., Ч.В., В.П., Р.Ш., и я так и буду именовать их. Хотя, это хлопотно и для меня, и для вас. Кстати, их объединяют два момента. Все они – грешат стихами. И все – подозрительно единодушны. Когда разные люди говорят одно и то же, можно заменить их одним человеком, имитатором, говорящим разными голосами. Я обобщу их именем стоящего первым – Я.Б.
Или еще проще – Ябэ.
Свой комментарий буду давать после очередного тезиса Ябэ.
«Ей-богу, – говорит он в одном из начальных пассажей, – горжусь тем, что сумел рассмешить Володю (меня, – В.Е.). Обидно, что ему, матёрому и маститому, никак не удаётся развеселить меня».
Об авторе «Кубометра пустоты» я действительно сказал: «Чеслав Василевич рассмешил меня «понтами» с первой страницы». Но смех – дело тонкое. Ябэ должен знать, что смеются и над посмешищем.
Насчет же моих неудач в попытках рассмешить Ябэ – еще проще. Чтобы смеяться по поводу литературных сцен и ситуаций, надобно иметь чувство юмора. Если его нет, не рассмешат никакие репризы. Это подтвердил Марк Твен, рассказав, как он пытался рассмешить глухого. Моих читателей с чувством юмора мне рассмешить удается – так они говорят мне сами (не под дулом пистолета).
«А вот среди цитат, используемых самим Владимиром, нетривиальных, незатрепанных всего ничего. Остальное – обычный расхожий ширпотреб: что попало под руку, то и брошено в лукошко. Лексические сорняки, не более».
Цитата, по определению, как сейчас модно говорить, является выдержкой из чужого текста. То есть, она тривиальна по своей природе. И затрепана, как книга, которую читают многие. В этом её ценность. Чем затрепаннее она, чем чаще на слуху, тем выше, стало быть, спрос на неё в народе. Я люблю затрепанные книги. Некоторые цитаты иногда повторяю в нескольких материалах, поскольку считаю, что их нужно забивать, как гвозди, в головы персон, подобных Ябэ.
«Я знаю, кто является ЛЕТОПИСЦЕМ НОВОГО ВРЕМЕНИ. Владимир Ерёменко. Говорю без доли иронии».
И правильно. Летописцем Нового Времени являюсь я и, воленс-неволенс, любой из нас, если он заглядывает в себя и в сегодняшний день искренне и до дна.
«И почему Ерёменко решил, что душу спасают, лепя непотребные тексты? По его же прикидкам триста лет их никто не прочитает... А через триста лет? Он уверен, что будет существовать читающее человечество? Человечество вообще?.. Ах, если бы она, словесность, и вправду спасала душу, а не травила, не терзала её! Разве был бы среди пишущих так беспощадно густ процент повесившихся, бросившихся в пролет или под поезд, принявших яд или пулю от самого себя?»
Насчет трехсот лет – очередное передергивание карт руками Ябэ. Фигура речи, когда для сравнения можно назвать и триста, и три тысячи лет, подается, как моя близорукость в предвидении будущего человеческой популяции. Так делают менты – кладут в карман гражданину пакет с героином и потом за это гражданина распинают. В моем романе «Восхождение в Бездну» (Ябэ обожает его), сказано без фигур речи уже в предисловии, что вряд ли человечество протянет до конца XXI века. В VII главе 13-й книги романа эта же мысль обосновывается.
И касательно души. Её спасают, лепя любые тексты. То есть, спасают не окончательно и бесповоротно, но в кантиниусе, в длящемся времени. Пишут, пытаясь отгородиться от косной жизни. Окончательно же душа спасается, как свидетельствуют святые отцы, только расставаясь с телом. Пока же тело живо, высота души автора и литературная высота его текста вовсе не находятся в прямой пропорциональной зависимости. Рассуждать о «густом проценте» бросившихся в пролет по вине словесности можно лишь в том случае, если Ябэ представит соответствующую статистику.
«А вот дальше Ерёменко, к сожалению, вступает на довольно скользкую дорожку. Цитирую: «Я отдал Слову полстолетия, знаю, что владею Им профессионально...». Французский юнец проработал в литературе всего лишь считанные на пальцах одной руки годы, но достаточно одного его «Пьяного корабля», чтобы утверждать: о своем слове он знал всё до крайней точки».
Ябэ намекает, что мои полстолетия есть дерьмо в сравнении с золотом французского юнца. Речь идет об Артюре Рембо (1854-1891) и о его стихотворении «Пьяный корабль». «О своём слове он знал всё до последней точки», – возглашает Ябэ. Не слишком ли сильно сказано, если вспомнить Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».
В 17 лет Артюр Рембо нашел свою свободу в Парижской коммуне, но через год устал от неё. Абсолютной свободы и «небывалого ясновидения» в поэзии он «достигал» наркотиками, алкоголем и педерастией. Через несколько лет Рембо разочаровался и в своих «ясновидениях», завязал с поэзией и отбросил копыта. Подобных скоропостижных гениев мир видел немало. Читатель сам может ознакомиться с «Пьяным кораблем» и оценить его достоинства. Это что-то вроде длинной колбасы с явными признаками дилетантства (уйма красивых «наворотов» и лишних слов), где единственный удачный образ – пьяный корабль. Можно ли верить откровениям юношей безумных, которые моментально стареют душой и выпадают в осадок? Я предпочитаю верить зрелым Мастерам, которые, несмотря на преклонный возраст, сохраняют молодость души. Марк Твен в автобиографической заметке «Дилетанты в литературе» поставил на место юных орлов: «Нам не приходилось слышать, чтобы необстрелянный рекрут, даже самый самоуверенный, требовал, чтобы его назначили бригадным генералом. Между тем автор-дилетант выступает именно с таким требованием. Не имея ни малейшего опыта литературной работы, хочет занять место литературных генералов, которые заслужили своё звание и свою должность годами и даже десятилетиями тяжкой беспорочной солдатской службы».
Ябэ долго разгонялся в своем тексте к цитированию фраз из моего “Восхождения в Бездну”, к этому чудному мгновению окончательного стирания меня в порошок. Я не смогу привести здесь всю «цитату» Ябэ из моего романа – она займет неоправданно много места. Читатель сам легко может увидеть, как это делает Ябэ, если заглянет на стр. 156 его трактата в «Склянке» (№ 58). Но всё же мне придется дать цитату хотя бы частично.
«Что такое «Восхождение в Бездну»? Не кубокилометр ли пустоты?.. Но беру в руки весомый, чётко отформованный том. Раскрываю наугад. «Татарин стоял дубом... Огромные серые глаза приблизились так, что Татарин потерял фокус... Он припал к телу. Жадно погрузился до дна. Разгонялся в неистовом телодвижении, нахлестывая упряжку... Разгорячась, опять вошел в работу». Намеренно привожу фразы, над которыми автор явно р а б о т а л (разрядка Ябэ, – В.Е.), целенаправленно добиваясь – чего? Добившись – чего? Сцена обыденная, пошлая, тривиальная, и язык – пошлый, безвкусный, любительский... Классическая картина творческого процесса – в изображении третьеразрядного литератора минувших времен... Стиль (если в данном случае позволительно говорить о наличии такового) напомнил мне опусы, ходившие по рукам в школярской среде, когда пробуждающиеся инстинкты ищут себе соответствующую пищу, и чем «натуральнее», тем слаще... Да я бы руку себе отрубил, если бы позволил такими фразами (из глобального романа великого автора) заполнять страницу за страницей».
Ябэ разгорячился не шутя. Пожалуй, я мог бы даже сам поверить ему, если бы не читал свой роман. Но я всё же больше верю себе и непредубежденным спецам. В 2007 году, после выхода в свет романа, я послал его Валентину Распутину. В начале 2009 года, в Москве, он сказал, что мне удалось написать свет и мрак, но не скатиться ни к цинизму, ни к порнографии.
Чтобы успокоить Ябэ (врагов нужно беречь), мягко укажу на все его тузы из рукавов, касающиеся моего романа.
Туз первый (не козырный). Рваное цитирование фрагмента из книги – весьма распространенный прием шестидесятых годов прошлого века для «уничтожения» литконкурентов: из мелодии, содержащей, скажем, сотню музыкальных фраз, вынимается полсотни; итог понятный – какофония. Это и проделано с фрагментом из моего «весомого, четко отформованного тома». Ябэ невольно приобщил меня к сонму великих – сейчас этот прием используют интернет-латунские для «критического разгрома» Пушкина, Льва Толстого, Достоевского, Бунина. Впрочем, прием действует неотразимо только на мозги непосвященных.
Для тех, кто не «врубается», предлагаю сравнить стихотворение Ябэ, напечатанное в конце его материала, с рваным (моим) цитированием этого же стихотворения:
Не верьте им, как бы искусно ни врали...
Котомки – не видано в мире тощее...
Способен из вечного праха и пыли...
Воротами хлопнув, швырните вдогон.
Вы что-нибудь поняли? почувствовали?
С помощью рваного цитирования можно угробить не только Пушкина или Толстого, но даже и Ябэ, а уж меня, «третьеразрядного литератора минувших времен», – подавно.
Туз козырный. «Сцена обыденная, пошлая, тривиальная».
Здесь Ябэ не просто приблизителен в словах, но откровенно неточен. Слово «обыденный» означает – рядовой, повседневный. «Тривиальный» – неоригинальный. Очень может быть, что Ябэ, опытный в амурах, попадает (попадал) в такие ситуации повседневно, но ведь я пишу не об Ябэ, а о молодом мужчине с уймой комплексов; ему далеко до Ябэ, и его потрясает первичность (оригинальность) встречи с женщиной, для которой лечь в постель с мужчиной не сложнее, чем – помните? – выпить стакан воды. Ради изображения человеческих ощущений в первичных столкновениях с жизнью я и писал книгу. Повторы не рисовал. Это один из принципов моего замысла.
И, наконец, слово «пошлый», которое означает – низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении. Это сокровенное слово Ябэ добыл из своего «лукошка», где оно хранилось со времен соцреализма, когда полагалось, чтобы у мужчин и женщин в паху не было ничего «низкого», а соитие было «ничтожным в духовном, нравственном отношении».
Жизнь, как известно мне, но неизвестно Ябэ, состоит из сцен высоких и низких. И совершенно очевидно, что, если изображать только высокие сцены, чураясь низких как пошлых, мы получим извращенную реальность. Пошлость состоит не в том, чтобы изображать низкую сцену, а в том, чтобы изображать её цинично и с низменным прицелом. Мой зримый герой – человек по фамилии Татарин. Мой незримый герой – прицел – правда. Для меня нет разницы – прекрасна правда или уродлива. Я вообще сомневаюсь в применимости этих определений к правде. Мой герой живет под Богом, под неумолимым требованием пола, под жестоким давлением либидо. Мой герой не так силен, как отец Сергий, и под этим давлением изнемогает, и, в конечном счете, доходит до психического срыва. Сцена, о которой речь, есть лишь одна из ступеней на пути к этому нервному срыву.
Я нередко употребляю слова бог и Бог, хотя не являюсь адептом каких бы то ни было религий. Библейского бога пишу с маленькой буквы, поскольку он для меня есть лишь герой религиозных книг и шоу. Мой Бог с большой буквы – Тайна Мироздания, или – в земных координатах – Природа. Именно она – Природа – равнодушная – требует своё. От неё не уйти.
Ябэ действовал целенаправленно, облаивая меня. Целенаправленно обнаружил в сцене из моего романа и «школярскую» клубничку – по-видимому, он сам сочинял такого рода труды. Моя же сцена не вызывает сексуального обалдения. Если кто-либо кончил, читая эту сцену моего романа, пусть бросит в меня камень. Нормальный человек – мужчина или женщина, – знакомясь с этой сценой, испытывает не половое возбуждение, а сочувствие к моему герою. И слово «работа» в постельной сцене в точности отвечает ощущениям героя. Замечу на всякий случай, что выражения лиц людей при совокуплении скорее смешные, чем антиэстетические. Это – выражения «лиц» животных. Пошло? Нет – природно. Ябэ – не исключение. Скрытая камера могла бы дать реальное представление о нем в половом акте. Никакой святости вы бы не заметили. Как и все прочие, он был бы похож в постели на работающий дышлом паровоз (если Ябэ не импотент). Такова природа процесса. Знай Ябэ о камере, он, понятно, постарался бы изобразить голубя.
Туз третий. «Язык – пошлый, безвкусный, любительский».
Из той же оперы – см. выше. Я бы рекомендовал Ябэ добавить в «лукошко», кроме сказанных слов, еще несколько штатных: серый, провинциальный, бездарный, примитивный, претенциозный, дегенеративный и пр.
Пришло время вернуться к языковой башне еще раз. Нижний её этаж ограничен вторым этажом. Над вторым этажом висит этаж третий. Он, третий, открыт на все четыре стороны света, и его потолок – бездонное небо. Обитатель третьего этажа может подняться как угодно высоко. В своё время, лет сорок назад, я тоже пребывал на втором этаже. И тоже научился «молоть» языком и баять. Некоторое время это вдохновляло. Но мне повезло. Как я сподобился сообразить, в чем соль и где истинная цель? Читал Мастеров и видел, где я. Помню, развешивал по всей своей комнате бумажки, на которых было написано одно слово – «ПРОЩЕ!». И постоянно, куда бы ни взглянул, натыкался на это слово. Я пытался избавиться от словесной шелухи, бутафории, красивостей, выспренностей и подняться на третий этаж. Мне это удалось.
Обитатели второго и третьего языковых этажей живут в разных координатах, им не понять друг друга. Ябэ застрял на «втором этаже» (как и Брусневич, один из четверки шулеров). Тут уж ничего не исправить. «Уме недозрелый – плод недолгой науки». Это справедливо, когда ум действительно еще недозрел, поскольку науки маловато. Но есть «умы», которые не дозревают никогда, сколько ни учи.
И о стиле. Для того, чтобы делать сообщения о наличии или отсутствии стиля, нужно знать, что такое стиль в литературе. Непроходимой проблемой для Ябэ есть то, что мой «четко отформованный том третьеразрядного литератора минувших времен», а также «дремучего повествователя» занял первое место на международной литературной ярмарке в Харькове, где были представлены более трехсот издательств Украины, России, Польши. Там меня судили без предубеждения. И там впервые я услышал об аллюзии в моем литературном стиле, и это же отметили позже профессионалы из СПР, когда намеревались представить мой роман на – свят-свят – Нобелевскую премию. О моих аллюзиях (не путать с поллюциями) упомянула в 2007 году и Людмила Тараненко, известная украинская поэтесса: «Восхождение в Бездну» – истинно мужской роман, единственный на сегодня в Украине. Стиль Владимира Ерёменко – богатство языка, точность слова, простота, ясность, образность без перебора, склонность к аллюзии».
Ябэ не знает, что такое аллюзия? Объясняю. Аллюзия – иносказание, намек. Это и есть одна из отличительных чертовин моего стиля, о чем я, понятно, не думаю, когда пишу (как, к примеру, не думает о фоностилистике Анатолий Мельник).
«Ладно, поёрничали и хватит».
Так сказал Ябэ, когда окончательно опустил меня ниже плинтуса и стер в порошок. Ябэ «ёрничал», подавая в разрядку, что я «р а б о т а л» над «этими фразами». Разумеется, р а б о т а л. И не только над этими фразами, но над всеми сценами романа. Работал 9 лет. Флобер работал над каждым своим романом в среднем по 7 лет.
Предлагаю Ябэ небольшой мастер-класс (ведь он сам в заголовке своего трактата назвал меня мастером), для чего использую тот же отрывок из моего романа, который Ябэ разорвал в клочья, желая убедить читателя в том, что я – тля.
Итак, «Татарин стоял дубом». Моя р а б о т а с языком состоит в том, чтобы рисовать ситуацию изнутри. Точными словами. И так, чтобы ситуацию увидел читатель. Я – в моем герое; я чувствую его состояние, предвижу его жесты, вижу, как он стоит. И потому – «Татарин стоял дубом». Не «как дуб». Это как раз и было бы штатным клише. «Стоял дубом», – говорю я. Здесь букет аллюзий – намек на молодую дубовую прочность и на молодой же дубовый идиотизм (ассоциация с поручиком Дубом непременно приходит в голову читателю, когда он слышит слова «дуб» или «дубом», или «дубовый»), и на детородный орган, который стоит дубом у молодых, каковым, напоминаю еще раз, и есть в той сцене мой герой. Разумеется, всё это – без математики; мне подсказывает мой герой. Можно было сказать: «Татарин пребывал в страшном напряжении, свойственном неопытному молодому мужчине при первом свидании с обольстительной нимфоманкой. Сердце его не разорвалось, оно было слишком молодо и сильно. Постояв с минуту, он присел на кровать... и т.д.». Такая фраза, где использован язык Ивана Бунина, устроит, возможно, Ябэ. Но, если бы я писал так, роман увеличился бы в объеме раз в десять. Потому-то я предпочел в данном случае самую краткую из возможных фраз, но, при этом, несущую многоплановую нагрузку.
И – под занавес. «Ёрничанье» Ябэ насчет «Владимира Ясенди» – еще одно проявление ненависти. Мой литературный псевдоним – Янвер Эсенди. Я могу откликаться на имя Владимир Ерёменко или Янвер Эсенди. Но кто таков Владимир Ясенди? Это не ко мне.
Хотел бы на прощанье вернуться к Лилии Безуглой. Только сейчас узнал, что она публикует стихи под псевдонимом Лидии Силиной, о которой я уже сказал в предыдущем обзоре. Силина-Безуглая – тот редкий случай, когда поэтесса хороша и в поэзии, и в прозе.
Владимир Еременко
(Джерело:
Критична стаття)
|